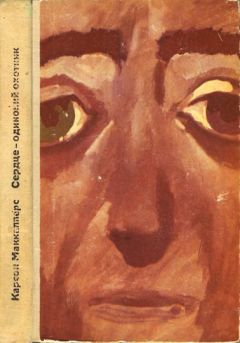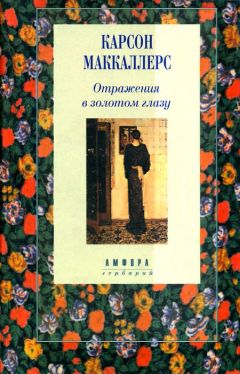Доктор Копленд крепко сжал зубы. Он так часто думал о Гамильтоне, Карле Марксе, Вильяме и Порции, о той истинной, высокой цели, которую он для всех них избрал, что один их вид пробуждал в нем темное, недоброе чувство. Если бы когда-нибудь он смог им все высказать — с самого незапамятного начала и по сегодняшний вечер, — это облегчило бы острую боль в его сердце. Но они не станут его слушать и ничего не поймут.
Он собрал все свои силы, даже мускулы его напряглись до отказа. Он не слышал и не видел, что творится вокруг; сидя в своем углу, он был слеп и глух ко всему. Вскоре они уселись за стол ужинать, и старик произнес застольную молитву. Но доктор Копленд ничего не ел. Когда Длинный достал бутылку джина и все по очереди стали весело отпивать из горлышка, он отказался и от выпивки. Он сидел в каменном молчании, пока наконец не взял шляпу и не вышел из дома, даже не попрощавшись. Раз он не мог высказать всей правды до конца, ему нечего было им сказать.
Доктор всю ночь пролежал в тоске без сна. На следующий день было воскресенье. Он навестил нескольких больных, а часам к двенадцати отправился к мистеру Сингеру. Это посещение притупило в нем чувство одиночества, и, попрощавшись с немым, он снова почувствовал на душе покой.
Однако не успел он выйти, как этот покой его покинул. С ним случилось маленькое происшествие. Когда он спускался по лестнице, он встретил какого-то белого, тащившего большой бумажный пакет, и прижался к перилам, чтобы с ним разминуться. Но белый мчался вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, не глядя по сторонам, и налетел на доктора с такой силой, что тому стало дурно и он задохнулся.
— Господи! Я вас не заметил…
Доктор Копленд пристально на него взглянул, но ничего не ответил. Он уже один раз видел этого белого. И вспомнил его словно сплюснутое, грубо вытесанное тело и огромные, нескладные ручищи. Потом с внезапным, болезненным интересом стал разглядывать его лицо, потому что вдруг заметил странный, остановившийся и отрешенный, как у безумца, взгляд.
— Извините, — пробормотал белый.
Доктор Копленд ухватился за перила и прошел мимо.
— Кто это у вас был? — спросил Джейк Блаунт. — Кто этот высокий негр, который только что отсюда ушел?
В маленькой комнате было убрано. Солнце падало на вазу с пурпурным виноградом, стоявшую на столе. Сингер, сунув руки в карманы, откинулся вместе со стулом назад и смотрел в окно.
— Я налетел на него на лестнице, и он так на меня посмотрел… Ей-богу, никто еще никогда не смотрел на меня с такой злобой.
Джейк поставил на стол пакет с пивными бутылками. Он вдруг испугался, сообразив, что Сингер, наверное, и не подозревает о его присутствии. Он подошел к окну и тронул Немого за плечо.
— Я налетел на него нечаянно. И чего он взъелся?
Джейка пробрала дрожь. Хотя солнце светило ярко, в комнате было холодновато. Сингер поднял указательный палец и вышел на площадку. Вернувшись, он принес ведерко с углем и растопку. Джейк следил за тем, как он опустился перед печкой на корточки, аккуратно переломал о колено щепки и разложил их в топке на бумаге. Сверху он, по какой-то особой системе, насыпал уголь. Сначала огонь не желал заниматься — не было тяги. Пламя чуть мерцало и гасло под пеленой черного дыма. Сингер прикрыл топку двойным листом газеты. Тяга дала огню новую жизнь. В печке загудело, бумага вспыхнула, ее втянуло в дымоход. Топку загородила потрескивающая оранжевая стена огня.
У первой утренней кружки пива был бархатный, приятный вкус. Джейк быстро проглотил свою долю и отер губы тыльной стороной ладони.
— Я был когда-то знаком с одной дамой, — сказал он. — Вы чем-то мне ее напоминаете. Мисс Клару. У нее в Техасе была маленькая ферма. А кроме того, она делала на продажу пралине. Высокая, крупная, приятная с виду дама. Ходила в длинных, мешковатых свитерах, грубых башмаках и мужской шляпе. Когда я с ней познакомился, муж ее уже умер. Но веду я все это вот к чему: если бы не она, я мог бы ничего и не узнать. Так бы и прожил свою жизнь, как миллионы других, ни о чем не имея понятия. Был бы просто священником, хлопкоробом либо коммивояжером. И вся моя жизнь пошла бы насмарку.
Джейк растерянно помотал головой.
— Чтобы это понять, скажу вам, с чего я начинал. Парнишкой я жил в Гастонии. Был я кривоногим хиляком, таким маленьким, что меня не взяли на фабрику. Работал за кормежку мальчиком на кегельбане. Там я услышал, что малые половчей могут зарабатывать по тридцать центов в день, нанизывая табачные листья. Я пошел и стал зарабатывать эти тридцать центов в день. Было мне тогда десять лет. Из дому я смылся. Писем не писал. Родители только радовались, что сбыли меня с рук. Вы же знаете, как это бывает. Да и к тому же кто бы мог прочесть мое письмо, кроме сестры?
Джейк двинул рукой, словно смахивая что-то с лица.
— Но главное вот что. Моя первая вера была в Христа. Там со мной под навесом работал один парень. Он открыл молельню и каждый вечер проповедовал. Я ходил, слушал и уверовал. Весь день напролет я думал только о Христе. В свободное время изучал Библию и молился. И вот как-то ночью взял я молоток и положил руку на стол. Был я так зол, что пробил гвоздем руку насквозь. Она была пригвождена к столу, я глядел на нее, пальцы мои дрожали и становились синими.
Джейк вытянул ладонь и показал рваный мертвенно-белый рубец посредине.
— Я хотел стать евангелистом. Ездить по стране, проповедовать слово божие и устраивать моления. А пока что бродил с места на место и годам к двадцати попал в Техас. Работал на сборе орехов недалеко от того места, где жила мисс Клара. Я познакомился с ней и вечерком иногда заходил посидеть. Она со мной беседовала. Я ведь прозрел не сразу. Сразу это ни с кем не бывает. Все происходило постепенно. Начал читать. Работал ровно столько, сколько надо, чтобы отложить немного денег, бросить на время работу и учиться. Я словно заново родился. Только те из нас, кто прозрел, могут это понять. У нас открылись глаза, и мы узрели. Как пришельцы откуда-то из нездешних краев.
Сингер утвердительно кивнул. В комнате было по-домашнему уютно. Немой вынул из стенного шкафа жестяную коробку, где хранились крекеры, фрукты и сыр. Он взял апельсин и стал его медленно чистить. Кожицу он обдирал до тех пор, пока фрукт не стал насквозь светиться на солнце. Тогда он разделил апельсин на дольки и половину дал Джейку, половину взял себе. Джейк клал в рот по две дольки сразу и шумно выплевывал зернышки в огонь. Сингер ел свою порцию медленно, аккуратно собирая зернышки в горсть. Они откупорили еще две бутылки пива.
— А много ли нас таких в стране? Пожалуй, тысяч десять. Может, двадцать. Но может, и много больше. Сколько мест я объездил, а встретил всего несколько человек таких, как мы. Но предположим, кто-то прозрел. И видит мир таким, какой он есть, мысленно возвращаясь на тысячи лет назад, чтобы понять, как все это получилось. Наблюдает за медленной концентрацией капитала и власти и видит, до каких геркулесовых столбов все это дошло. Видит, что Америка — сумасшедший дом. Видит, что людям приходится грабить своих братьев, чтобы выжить. Видит, как дети мрут с голоду, а женщины работают по шестьдесят часов в неделю, чтобы себя прокормить. Видит эту треклятую армию безработных, в то время как миллиарды долларов пускают на ветер, а тысячи миль земли пустуют. Видит приближение войны. Видит, что, когда люди страдают, они становятся подлыми, злыми и в них что-то умирает. Но главное, он видит, что все устройство мира основано на лжи. И хотя это всем ясно как божий свет, люди, которые не прозрели, прожили так долго в этой лжи, что просто ничего не видят.
Красная жила у Джейка на лбу гневно вздулась. Он схватил ведерко с углем и с грохотом вывалил все сразу в огонь. Нога у него затекла, и он затопал ею так сильно, что затрясся пол.
— Я обошел весь город. Хожу повсюду. Говорю. Объясняю. Но что толку? Господи!
Он глядел в огонь, и от печного жара и выпитого пива лицо его стало багровым. Судороги в занемевшей ноге поднимались все выше, до самого бедра. Его клонило ко сну, и огонь перед глазами отсвечивал зелеными, синими и пламенно-желтыми бликами.
— Вы — единственный, — сонно произнес он. — Один-единственный…
В этом городе он уже не был чужим. Теперь он знал здесь каждую улицу, каждый переулок, каждый забор во всех вытянутых в разные стороны трущобах. Он все еще работал в «Солнечном Юге». Осенью балаганы колесили с одного пустыря на другой, не выезжая за городскую черту, пока наконец не обходили весь город. Место действия менялось, но обстановка была все той же: пустырь, окруженный прогнившими хижинами, где-то по соседству фабрика, хлопкоочистка или разливочный заводик. И толпа — повсюду одинаковая, по большей части фабричные рабочие и негры. По вечерам пестрели разноцветные лампочки. Деревянные лошадки карусели крутились под звуки механической музыки. В воздухе носились качели; у барьера вокруг игры в монетки всегда толпился народ. В двух киосках торговали напитками, кроваво-коричневыми котлетами и конфетами на хлопковом масле.